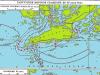Главной причиной асистематичности явилось важнейшее для Барта представление о непреодолимой тотальной власти языка. Аналогичным образом Гадамер усматривает власть традиции-языка и осознанно подчиняется этой власти в сложной игре порождения нового смысла, являющегося новым выражением традиции. Напротив, Барт устремлен к обретению безусловной свободы, однако «свобода возможна только вне языка». Поскольку вовсе избежать языка нельзя, с ним можно «плутовать» - это и есть главное, по Барту, в занятиях литературой.
Исследовательская позиция Барта получила в конечном счете определенную завершенность в качестве конституируемой им самим дисциплины - литературной семиологии. Новаторство Барта, уникальность исследовательской позиции подтверждаются открытием в Коллеж де Франс соответствующей кафедры специально для вновь принятого профессора (1977). В актовой лекции при вступлении в должность взгляды Барта достигают высокого уровня осознанности. Последовательное утверждение невозможности научного метода исследования гуманитарных (языковых) проблем сочетается здесь с наличием конкретной стратегии исследования, постоянно обращенной к самоопровержению: «плутовская» игра - установка на ускользание из-под власти языка, а не создание метаязыка, в котором принципиально невозможно обретение свободы - такую убежденность Барт обрел в результате длительной и интенсивной «жизни в языке». Эта позиция совмещает таким образом завершенность определенной стратегии с императивом нескончаемого пути, бегства от всякой определенности. Систематическая асистематичность возведена Бартом в ранг описательно-познавательной стратегии, своеобразного постпротиворечивого дискурса.
Цельность взглядов Барта в регулярном (систематичном) языковом обращении может быть связана с телесностью в утверждаемом настоящей работой смысле этого понятия: изменение познавательных и описательных возможностей привело к явлению Р. Барта, удерживающего противоречия в поле цельного, неразрушающегося сознания; его присутствие в культуре сообщает достоверность исследовательской позиции, соотносит её новаторство с человеческими возможностями, нашедшими конкретную реализацию в деятельности французского литератора, ученого, исследователя. Определяя семиологию с точки зрения своего личного понимания этой не вполне еще установившейся дисциплины, Барт оправдывает наше предположение: «Думаю, однако, что цель учреждения той или иной кафедры в Коллеж де Франс - не столько в том, чтобы освятить определенную дисциплину, сколько в том, чтобы поддержать развитие того или иного индивидуального исследования, интеллектуальный поиск той или иной личности».
Барт начинает с подробной характеристики литературной и критической деятельности как власти языка, и мы не замечаем, как в центре оказывается уже не язык-объект, а критик-интеллектуал, который, впрочем, не позволяет себе слишком увлечься творческим субъектом. Как и Гадамер, Барт указывает на исключительную необходимость «расслышать голос субъекта», но точно так же это остается лишь декларативным высказыванием, восполняющим пробел утверждаемого дискурса; такая декларация не способствует конкретному пониманию литературы с точки зрения субъекта творчества, зато отличается подлинной поэтичностью - воздаянием художнику за ущербность объяснений: «Напротив, высказывание-процесс акцентирует место и энергию самого этого субъекта, иными словами, неуловимость его существа (отнюдь не тождественную отсутствию самого субъекта) и потому нацелено на реальность языка как таковую; оно предполагает, что сама языковая деятельность подобна необъятной туманности - области взаимных прикосновений, влияний, отпечатков, отголосков, движений взад и вперед, соподчинений. Высказывание-процесс заставляет расслышать голос субъекта - настойчивый и в то же время неуловимый, неведомый и вместе с тем узнаваемый благодаря его будоражащей интимности; иллюзорное отношение к словам как к простым орудиям исчезает, они начинают вспыхивать прожекторами, взрываться петардами, сиять трепетными всполохами, взлетать фейерверком, доноситься, как сочные ароматы письмо превращает знание в празднество».
В комментарии трудно выдержать эстетическую высоту приведенного текста, а ведь он как раз о чаемом нами единстве художника и художества, о необычайности мира-языка как творения. Однако прозаическая сторона дела заключается в том, что писатель возникает на пересечении, во взаимодействии различных языков и, с другой стороны, в результате «постоянного смещения или постоянного упорствования»: «Писатель должен обладать упорством дозорного, находящегося на перекрестке всех прочих дискурсов...». Лишь только Барт заговорил об «упорстве» и «смещении», тотчас акцент его дискурса переносится на письмо-власть, овладевающее писателем: «власть завладевает радостным чувством, доставляемым письмом, точно так же, как она поступает со всякой иной радостью...».
Поздний Барт хоть и отдает должное духовности, но не отваживается «воскресить» автора. Напротив, в его высказываниях усиливаются властные, даже зловещие ноты. Имея в виду первоначальное различение понятий язык и дискурс - или Язык/Речь, - Барт пишет: «благодаря этой оппозиции я получал возможность редуцировать дискурс, свести его к грамматическому примеру и тем самым обретал надежду подчинить себе все коммуникативные отношения человека». Может быть, здесь как раз сказалась настоящая цель критика, по Барту: властвование над языком посредством совершенствуемого им же самим дискурса? Именно это закономерное предположение побуждает завершить анализ блестящих гуманитарных воззрений Ролана Барта обращением к знаменитой статье «Смерть автора»(1968). Интеллектуальный радикализм нередко приводит Барта к разного рода крайностям суждений. Своим революционизмом «Смерть автора» вызывает в памяти время студенческих волнений во Франции 1968-го года и в связи с этим - позицию шестидесятитрехлетнего Жана-Поля Сартра, знаменитого философа и писателя, вышедшего на улицы Парижа вместе со студентами. Так возникает своеобразный семиологический ряд.
Литература у Барта предстает как «исторически подвижная совокупность «общих мест», из которых, словно из кирпичиков, писатель вынужден складывать здание своего произведения». Язык следует понять двояко: как средство индивидуации и одновременно социализации, как средоточие свободы и необходимости. Всё индивидуальное растворяется в языке, приобретает смысл некоторой всеобщности. Наш внутренний мир попадает в тень языка, во власть «письма»: «...в письме как раз и уничтожаются всякое понятие о голосе, об источнике. Письмо - та область неопределенности, неоднородности и уклончивости, где теряются следы нашей субъективности, черно-белый лабиринт, где исчезает всякая самотождественность, и в первую очередь телесная тождественность пишущего. Приведем ещё несколько цитат, характеризующих отношение к автору: «...голос отрывается от своего источника, для автора наступает смерть, и здесь-то начинается письмо»; «говорит не автор, а язык как таковой; письмо есть изначально обезличенная деятельность»; «автор есть всего лишь тот, кто говорит «я»; язык знает «субъекта», но не «личность». Барт Р. Воображение знака / пер. Н.А. Безменовой // Избранные ра-боты. Семиотика. Поэтика; под ред. ПК. Косикова. - М., 1994.
Такова обстановка драматического события. Слова постепенно раскрывают смысл свершившегося: «некоторые писатели уже давно пытались» поколебать «власть Автора», подвергнуть Автора «сомнению и осмеянию»; «десакрализация образа Автора», «анализ и разрушение фигуры Автора», «удаление Автора» - длительные усилия, происки, разоблачения дают, наконец, результат: «современный скриптор, покончив с Автором», совершенно иначе понимает творчество, «Автор-Бог» развенчан. «Писатель... может лишь вечно подражать тому, что написано прежде и само писалось не впервые...»; «жизнь лишь подражает книге, а книга сама соткана из знаков, сама подражает чему-то уже забытому, и так до бесконечности». Глазами Гегеля Барт смотрит на мир сквозь специальное оптическое стекло, отшлифованное им самим, и его умозрение обнаруживает не «феноменологию Духа», а «феноменологию Текста», не абсолютный прогресс, а проблематичное существование. Десакрализованный мир готов скатиться к языковому хаосу, но последним усилием Критик удерживает в своем сознании космический «гул языка». Проникновенная апология Читателя в конце статьи «Смерть автора», в частности, её революционная концовка-лозунг: «рождение читателя приходится оплачивать смертью Автора» - представляются самообманом Критика, добросовестным заблуждением на счет своей истинной цели - стать Богом.
Барт не художник, как Элиот, а теоретик, и поэтому ему не грозит «метафизическое самоубийство». Концептуально-критическое сознание в XX веке разрушает единство творца и творения (телесность), данное сильному поэту в интеллектуальном переживании художества. Критическая мысль уподобляет художество самой себе, художник становится неотличим от критика в его, критика, восприятии и оценке. Критик замещает художника. Наоборот, Элиот спасает художника: «В самом деле, большая часть усилий автора, создающего произведение, уходит, видимо, на критическую оценку того, что он создает; ведь творчество - это просеивание, сочетание в разных комбинациях, удаление лишнего, исправление, опробование; и весь этот изнурительный труд в той же мере может быть назван работой критической, как и творческой». В данном случае все наоборот: критик неотличим от художника, но в самосознании последнего. Однако из этого не следует возможность уравнения «творческого и критического»: «Я исхожу из той аксиомы, что творчество, создание произведения искусства есть процесс самодовлеющий, критика же по самой сути дела имеет своим предметом нечто постороннее по отношению к себе». Автор не умер. Он умерщвлен отвергнувшей традиционализм революционной критической мыслью ради высвобождения смысла. В таком случае, быть может, лучше, если бы он и не родился, как у Р. Рорти. Так безысходность сегодняшнего состояния европейской культуры по крайней мере не отягчена неумышленным злодейством. Р. Барт диагностировал «смерть автора», но «похороны» так и не состоялись за отсутствием... тела. Оно претворилось, стало миром-текстом. Речь идет об артикулированной нами телесности переживания художества сильным поэтом, и если мы - художнически и критически - не переживаем поэзию таким образом, то, возможно, в этом причина теперешнего ее состояния. Барт Р. Воображение знака / пер. Н.А. Безменовой // Избранные работы. Семиотика. Поэтика; под ред. ПК. Косикова. - М., 1994.
Умер ли автор? Этот вопрос волнует, к примеру, моего любимого Ролана Барта. Волнует его, видите ли, кто сказал: «Марина в тот день была необыкновенно хороша»... Ну, кто сказал это самое «мяу»? На обложке выписано имя автора — «Анна Чухломская». Вот! Значит, она и есть автор! А может быть, и не она. Может быть, эту сакраментальную фразу о прекрасной Марине произнёс главный герой романа «Она у него», которого, естественно, зовут Андреем. А может, и не Андрей; может, это сказал читатель, читатель Миша З-в!.. Короче, нет автора, умер, скорее всего! Но тогда где же труп? Или напрасно Ролан Барт призывает тень Бальзака для доказательства смерти автора? Может быть, эта самая смерть автора, как понимал её Ролан Барт, была всегда? И кто произнёс «Энкиду, друг мой!»? Автор поэмы о Гильгамеше? Гильгамеш? Неведомый нам читатель? Ведь существовал же и читатель!.. Но вообще-то все подобные кунштюки не интересуют меня. Ведь Ролана Барта занимает текст, он в тексте ищет этого самого автора. Меня же занимает именно автор. Кто такой автор и почему он, как я полагаю уверенно, жив, жил и будет жить...
Я думаю, что автор — это обладатель авторской психологии, то есть масло — это то, что имеет вкус масла! Автор, возможно, и ничего не сочинил, не нарисовал и не изваял, но... обладает авторской психологией, чувствует себя автором. Но почему человек чувствует себя автором? Я отвечаю на поставленный мною же вопрос следующим образом: потому что в обществе предусмотрена роль автора. Если такая роль не предусмотрена, то и автора нет! И ещё немаловажное обстоятельство: роль автора — престижная роль. Обществу нужны авторы, оно жаждет приласкать их, отшлёпать, казнить, наградить. Оно жаждет назвать имя! Оно суммирует признаки и свойства бродячих стариков, декламирующих нараспев старинные легенды, и сотворяет одного... автора по имени Гомер! И... между прочим, если у общества нет потребности в наличии автора, то и автора нет. Мой добрый друг Лазарь Вениаминович Шерешевский работал в подростковом возрасте избачом в деревне Кубаево, где и записал ряд местных частушек. Некоторые оказались совершенно прелестными. Я невольно спросила: кто же это сочинил? И... cуть даже и не в том, что автора не было; суть в том, что никто из местных жителей и не претендовал на роль автора! В деревне Кубаево не была предусмотрена роль автора частушек! А вот пример прямо противоположный: периодически выясняется, что у того или иного популярного текста обнаружился автор! Вот он, сочинитель «...поручика Голицына...» и стишка «...мой товарищ в смертельной агонии...»; и вот кто сочинил слова песенки о том, как «Жанетта поправляла такелаж...» — московский школьник Абрам Либерзон (допустим!). Что ж, Абрама Либерзона можно понять, он живёт в обществе (и фактически это «общество» — едва ли не весь мир!), где роль автора востребована и престижна. Ещё вчера был пенсионер из какой-то ближневосточной страны, бывший московский школьник, а уже сегодня — автор! И таких забавных претендентов на авторство популярных текстов не так уж мало! А вот другой пример: собственно испанская литература началась с маленькой повести о злоключениях мальчика Ласарильо. Надо отметить, что на авторство не претендовал никто, поскольку за это самое авторство не полагалась Нобелевская премия, а полагался застенок инквизиции! А вот когда стало можно, прошло уже столько времени, что претендовать на авторство не имело смысла. Повесть о Ласарильо с брегов реки Тормес так и осталась анонимной.
Итак, понятие «автор» нельзя отделить от понятия «престижность», «положение в обществе» и — самое главное — «вознаграждение»! Это «вознаграждение» может быть самым что ни на есть примитивным, то есть в виде купюр или монет; но главное — высокая самооценка, — вот оно — главное «вознаграждение»! Автор отличается высокой самооценкой, всегда! Даже когда критикует себя в уме!
Но хорошо, понятно. И всё-таки... Возможно ли быть автором, если ничего не творить? Конечно. Возможно! Ведь главное — не какое-то там творение чего бы то ни было, а чувствование себя творцом. Для этого всё-таки необходимо совершить некоторый акт присвоения. Успешность акта присвоения зависит от степени образованности автора, от его умения выстраивать тактически своё авторское поведение. Возможно привести разные примеры акта присвоения. Переписывание текста, чужого текста. Вспомним средневековых монахов. Одно из монашеских деланий — как раз переписывание текстов. Многократно переписанный текст преображался в некую коллективную собственность, это обстоятельство редуцировало авторскую психологию, переписчики, даже внося изменения в текст, уже не чувствовали себя авторами. Но индивидуальный акт переписывания текста, напротив, продуцирует авторскую психологию. Вспомним чапековского композитора Фолтына, который сам ничего сочинить не мог, но присваивал чужие сочинения, обладая гипертрофированной авторской психологией. Девяностодевятилетний Иван Иванович Иванов прислал в журнал «Работница» текст песни «Синенький скромный платочек», заменив «синенький» на «красненький». Прозаик М. Ш. раскавычил воспоминания писательницы В.П. и не указал её авторства. Результаты произошли следующие: Ивану Ивановичу ответили письмом, что автором он не является; о прозаике М.Ш. критики написали много комплиментарных статей о том, как прекрасно он показал эту самую смерть автора. А ведь и в том и в другом случае имело место всего лишь элементарное присвоение текста.
Итак. Автор — это прежде всего тот, кто чувствует себя автором. Но большая часть авторов жаждет не только соответственного самочувствия, но и существенного вознаграждения в виде разных форм общественного признания. Автор — это тот, кто получает гонорары, награждается премиями и раздаёт автографы!..
Да, очень странно звучит: известный критик Ку-Ку подробно рассказал в своей статье о смерти автора. Но если автор умер, то кто же тогда Ку-Ку? И зачем этому Ку-Ку его известность?
Западная Европа унаследовала авторство прямиком из Древнего Рима. История русской культуры более специфична. Первыми авторами здесь были церковные иерархи византийского стиля, составившие некий замкнутый круг публицистов-полемистов. Они писали для своего круга, желание иметь огромное количество читателей не было бы ими понято. Авторство возникало случайно. Некоему Офонасу, сыну Микиты, приказали отчитаться о его пути наугад, приведшем его аж на индийские территории. Отчёт сохранился, и вместе с текстом имя автора. Иногда авторство фиксировалось, потому что речь шла об «иностранных специалистах», Максим Грек, Феофан Грек и проч.
Показательный случай приключился с одним администратором артели богомазов. Собственно, их было двое — Андрей Рублёв и Даниил Чёрный. Ни у кого в этой артели не было авторской психологии. Но несколько веков спустя, в обществе, где роль автора была предусмотрена, понадобился не просто автор-художник, но национальный автор-художник, прародитель, в некотором роде, отечественной живописи. На эту благородную роль выбран был Андрей Рублёв. Затем был снят режиссёром Тарковским фильм об Андреевых страстях. В этом фильме прежний администратор, умевший договариваться об оплате и покупке красок, окончательно превратился в автора с характерной авторской психологией, с поисками этого самого своего стиля и капризными терзаниями себя и окружающих. И, конечно, это произошло уже в XX веке.
XIX и XX века стали для авторов золотым веком. К XIX веку автор завершил многовековой путь от слуги своего покровителя, от человека, для которого основное — материальное вознаграждение, к человеку романтического склада, который сам играет в обществе роль влиятельного господина. В России это был путь от несчастного Андрея Матвеева, петровского стипендиата, фактически первого русского художника, умершего на родине от отсутствия заказов, а также от чахотки и водки, к Валентину Серову, перед которым трепетали князья и графы, ища его благосклонного внимания.
В XIX веке автор начал заменять собою аристократа. В XX веке этот процесс завершился. Занятно, что автор узурпировал даже самоценность личности аристократа. Герцог был ценен в качестве именно герцога, даже если не умел управлять своими владениями. Современная рекламная кампания зачастую указывает на самоценность личности автора, который должен быть интересен даже и не в качестве автора, а в качестве чьего-то супруга, владельца роскошного поместья, чудака и проч. Лампедуза, певец последнего истинного аристократа, так и не обнародовал свой текст. «Леопард» принёс ему посмертную славу. Быть может, Лампедуза хотел уйти из жизни представителем знатного рода, а не этим самым автором!
Вы только взгляните на автора, снисходительно благодарящего в нобелевской речи не кого-нибудь, а всего лишь короля Швеции!
Но главное, — мы — любой из нас — не сами выбрали роль автора. Эта роль как-то так вдруг наложилась на наши личности и сделалась её неотделимой частью. И в этом смысле я — такая же, как все мои коллеги. Я общаюсь преимущественно с авторами, и не просто с авторами, а с людьми, наделёнными авторской психологией в гипертрофированной степени. Я и самая такая! Я чувствую, я знаю, что пишу так, как не пишет никто. Я упиваюсь чувствами своими непризнанного гения; я знаю, что меня не ценят, как я того заслуживаю! Я — автор!
Труп не обнаружен, похороны отменяются. Автор не умер, автор всё ещё нужен обществу, в этом театре роль автора — престижная роль! Да здравствует автор!
Барт Ролан (1915–1980) – французский эстетик, критик, эссеист, философ, один из главных представителей структурализма в эстетике. Эволюция его творчества распадается на три периода. В первый (1950-е) он испытывает сильное влияние марксизма и Ж.-П. Сартра. Во второй (1960-е) взгляды Барта находятся в рамках структурализма и семиотики. В третий (1970-е) он переходит на позиции постструктурализма и постмодернизма. Через все периоды проходит тема письма, концепция которого существенно меняется. В 50-е годы Барт определяет письмо как «третье измерение формы», располагает его между языком и стилем, выводя последние за пределы собственно литературы. Письмо выступает способом связи литературы с обществом и историей, представляет собой литературный язык, включенный в конкретный социально-исторический контекст.
Предлагаемая читателю статья «Смерть автора» (1968) относится ко второму периоду, когда Барт увидел в структурно-семиотической методологии возможность решения всех проблем искусства, эстетики и критики. Лингвистика и семиотика, пишет он, «смогут наконец вывести нас из тупика, куда нас постоянно заводят социологизм и историзм». Барт смотрит на мир через призму языка, считая, что само существование мира вне языка является проблематичным. Язык охватывает и пронизывает все явления: «язык повсюду», «все есть язык». Все вещи и предметы являются значащими, символическими системами, каковыми их делает язык, выступая для них «не только моделью смысла, но и его фундаментом». Для Барта изменить язык – значит изменить мир. Радикальное преобразование общества он надеется осуществить с помощью «революции в собственности на символические системы».
Искусство, как и другие явления, также рассматривается с точки зрения знака и языка, как формальная система, в которой главным выступает не смысл и содержание, но форма и порождающая смысл структура, «кухня смысла». Барт отождествляет литературу и язык, подчеркивая их глубокую и неразрывную связь. Хотя все сферы действительности не могут обойтись без языка, «исповедуют» они его по-разному. Внелитературные виды человеческой деятельности смотрят на язык потребительски, подходят к нему инструментально, используя для достижения своих целей. Что касается современной литературы – экспериментальной и авангардистской, – то в ней, по Барту, «язык больше не может быть удобным инструментом или роскошным украшением социальной, эмоциональной или поэтической реальности», «язык есть само бытие литературы, сам мир ее». Только литература целиком и полностью существует «в языке», только она берет на себя «полную ответственность за язык», только в ней он чувствует себя как у себя дома. Литература, понимаемая как рассказ, должна существовать не ради какой-либо функции, а ради самого рассказа, как чистая символическая деятельность. Барт существенно пересматривает свое понимание письма. Оно превращается в «реле», которое не включает, а отключает литературу от общества и истории. Теперь письмо играет ту роль, которую традиционно исполнял писатель как автор своих произведений. Он считает, что «писателем является тот, кто трудится над своей речью, и функционально растворяется в этом труде». Он не предшествует своему произведению, не вынашивает его, не имеет на него каких-либо прав собственника. Писатель перестает быть автором своего произведения. Он также перестает быть активным началом, субъектом творчества, уступая свое место языку и письму.
На смену писателю-автору приходит просто пишущий, рука которого не столько пишет, сколько совершает чисто начертательный жест и очерчивает некое знаковое поле, не имеющее какого-либо начала. Писатель при этом выступает в качестве анонимного и безличного «агента действия», а движущей силой творческого процесса является «саморефлексирующее письмо». Последнее становится техникой «выпаривания» смысла слов и создания новых, вторичных смыслов и значений, «сверхзначений» или коннотаций, представляющих собой имманентные, эндогенные образования. «Письмо, – уточняет Барт, – беспрерывно выдвигает какой-то смысл, но делает это для того, чтобы тут же его выпарить: оно занято систематическим избавлением от смысла». Поэтому литература оказывается «пустым знаком» или «знаком с пустым смыслом». Она становится «разочаровывающей значащей системой». В ней все имеет лингвистическую природу, и потому писатель или автор превращается в «бумажное существо», обладает бытием только на бумаге, становясь «лингвистическим лицом». То же самое происходит с литературными персонажами. Все происходящее в произведении есть приключение письма.
Д.А. Силичев
Бальзак в новелле «Сарразин» пишет такую фразу, говоря о переодетом женщиной кастрате: «То была истинная женщина, со всеми ее внезапными страхами, необъяснимыми причудами, инстинктивными тревогами, беспричинными дерзостями, задорными выходками и пленительной тонкостью чувств». Кто говорит так? Может быть, герой новеллы, старающийся не замечать под обличьем женщины кастрата? Или Бальзак-индивид, рассуждающий о женщине на основании своего личного опыта? Или Бальзак-писатель, исповедующий «литературные» представления о женской натуре? Или же это общечеловеческая мудрость? А может быть, романтическая психология? Узнать это нам никогда не удастся, по той причине, что в письме как раз и уничтожается всякое понятие о голосе, об источнике. Письмо – та область неопределенности, неоднородности уклончивости, где теряются следы нашей субъективности, черно-белый лабиринт, где исчезает всякая самотождественность, и в первую очередь телесная тождественность пишущего.
Очевидно, так было всегда: если о чем-либо рассказывается ради самого рассказа, а не ради прямого воздействия на действительность, то есть, в конечном счете, вне какой-либо функции, кроме символической деятельности как таковой, – то голос отрывается от своего источника, для автора наступает смерть, и здесь-то начинается письмо. Однако в разное время это явление ощущалось по-разному. Так, в первобытных обществах рассказыванием занимается не простой человек, а специальный медиатор – шаман или сказитель; можно восхищаться разве что его «перформацией» (то есть мастерством в обращении с повествовательным кодом), но никак не «гением». Фигура автора принадлежит новому времени; по-видимому, она формировалась нашим обществом по мере того, как с окончанием средних веков это общество стало открывать для себя (благодаря английскому эмпиризму, французскому рационализму и принципу личной веры, утвержденному Реформацией) достоинство индивида, или, выражаясь более высоким слогом, «человеческой личности». Логично поэтому, что в области литературы «личность» автора получила наибольшее признание в позитивизме, который подытоживал и доводил до конца идеологию капитализма. Автор и поныне царит в учебниках истории литературы, в биографиях писателей, в журнальных интервью и в сознании самих литераторов, пытающихся соединить свою личность и творчество в форме интимного дневника. В средостении того образа литературы, что бытует в нашей культуре, безраздельно царит автор, его личность, история его жизни, его вкусы и страсти; для критики обычно и по сей день все творчество Бодлера – в его житейской несостоятельности, все творчество Ван Гога – в его душевной болезни, все творчество Чайковского – в его пороке; объяснение произведения всякий раз ищут в создавшем его человеке, как будто в конечном счете сквозь более или менее прозрачную аллегоричность вымысла нам всякий раз «исповедуется» голос одного и того же лица – автора.
Хотя власть Автора все еще очень сильна (новая критика зачастую лишь укрепляла ее), несомненно и то, что некоторые писатели уже давно пытались ее поколебать. Во Франции первым был, вероятно, Малларме, в полной мере увидевший и предвидевший необходимость поставить сам язык на место того, кто считался его владельцем. Малларме полагает – и это совпадает с нашим нынешним представлением, – что говорит не автор, а язык как таковой; письмо есть изначально обезличенная деятельность (эту обезличенность ни в коем случае нельзя путать с выхолащивающей объективностью писателя-реалиста), позволяющая добиться того, что уже не «я», а сам язык действует, «перформирует»; суть всей поэтики Малларме в том, чтобы устранить автора, заменив его письмом, – а это значит, как мы увидим, восстановить в правах читателя. Валери, связанный по рукам и ногам психологической теорией «я», немало смягчил идеи Малларме; однако в силу своего классического вкуса он обратился к урокам риторики, а потому беспрестанно подвергал Автора сомнению и осмеянию, подчеркивал чисто языковой и как бы «непреднамеренный» «нечаянный» характер его деятельности и во всех своих прозаических книгах требовал признать, что суть литературы – в слове, всякие же ссылки на душевную жизнь писателя – не более чем суеверие. Даже Пруст, при всем видимом психологизме его так называемого анализа души, открыто ставил своей задачей предельно усложнить – за счет бесконечного углубления в подробности – отношения между писателем и его персонажами. Избрав рассказчиком не того, кто нечто повидал и пережил, даже не того, кто пишет, а того, кто собирается писать (молодой человек в его романе – а впрочем, сколько ему лет и кто он, собственно, такой? – хочет писать, но не может начать, и роман заканчивается как раз тогда, когда письмо наконец делается возможным), Пруст тем самым создал эпопею современного письма. Он совершил коренной переворот: вместо того чтобы описать в романе свою жизнь, как это часто говорят, он самую свою жизнь сделал литературным произведением по образцу своей книги, и нам очевидно, что не Шарлю списан с Монтескью, а, наоборот, Монтескью в своих реально-исторических поступках представляет собой лишь фрагмент, сколок, нечто производное от Шарлю. Последним в этом ряду наших предшественников стоит Сюрреализм; он, конечно, не мог признать за языком суверенные права, поскольку язык есть система, меж тем как целью этого движения было, в духе романтизма, непосредственное разрушение всяких кодов (цель илллюзорная, ибо разрушить код невозможно, его можно только «обыграть»); зато сюрреализм постоянно призывал к резкому нарушению смысловых ожиданий (пресловутые «перебивы смысла»), он требовал, чтобы рука записывала как можно скорее то, о чем даже не подозревает голова (автоматическое письмо), он принимал в принципе и реально практиковал групповое письмо – всем этим он внес свой вклад в дело десакрализации образа Автора. Наконец, уже за рамками литературы как таковой (впрочем, ныне подобные разграничения уже изживают себя) ценнейшее орудие для анализа и разрушения фигуры Автора дала современная лингвистика, показавшая, что высказывание как таковое – пустой процесс и превосходно совершается само собой, так что нет нужды наполнять его личностным содержанием говорящих. С точки зрения лингвистики, автор есть всего лишь тот, кто пишет, так же как «я» всего лишь тот, кто говорит «я»; язык знает «субъекта», но не «личность», и этого субъекта, определяемого внутри речевого акта и ничего не содержащего вне его, хватает, чтобы «вместить» в себя весь язык, чтобы исчерпать все его возможности.
Удаление Автора (вслед за Брехтом здесь можно говорить о настоящем «очуждении» – Автор делается меньше ростом, как фигурка в самой глубине литературной «сцены») – это не просто исторический факт или эффект письма: им до основания преображается весь современный текст, или, что то же самое, ныне текст создается и читается таким образом, что автор на всех его уровнях устраняется. Иной стала, прежде всего, временная перспектива. Для тех, кто верит в Автора, он всегда мыслится в прошлом по отношению к его книге; книга и автор сами собой располагаются на общей оси, ориентированной между до и после; считается, что Автор вынашивает книгу, то есть предсуществует ей, мыслит, страдает, живет для нее, он так же предшествует своему произведению, как отец сыну. Что же касается современного скриптора, то он рождается одновременно с текстом, у него нет никакого бытия до и вне письма, он отнюдь не тот субъект, по отношению к которому его книга была бы предикатом; остается только одно время – время речевого акта, и всякий текст вечно пишется здесь и сейчас. Как следствие (или причина) этого смысл глагола писать должен отныне состоять не в том, чтобы нечто фиксировать, запечатлевать, изображать, «рисовать» (как выражались Классики), а в том, что лингвисты вслед за философами Оксфордской школы именуют перформативом – есть такая редкая глагольная форма, употребляемая исключительно в первом лице настоящего времени, в которой акт высказывания не заключает в себе иного содержания (иного высказывания), кроме самого этого акта: например, Сим объявляю в устах царя или Пою в устах древнейшего поэта. Следовательно, современный скриптор, покончив с Автором, не может более полагать, согласно патетическим воззрениям своих предшественников, что рука его не поспевает за мыслью или страстью и что коли так, то он, принимая сей удел, должен сам подчеркивать это отставание и без конца «отделывать» форму своего произведения; наоборот, его рука, утратив всякую связь с голосом, совершает чисто начертательный (а не выразительный) жест и очерчивает некое знаковое поле, не имеющее исходной точки, – во всяком случае, оно исходит только из языка как такового, а он неустанно ставит под сомнение всякое предствление об исходной точке.
Ныне мы знаем, что текст представляет собой не линейную цепочку слов, выражающих единственный, как бы теологический смысл («сообщение» Автора-Бога), но многомерное пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не является исходным; текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных источников. Писатель подобен Бувару и Пекюше, этим вечным переписчикам, великим и смешным одновременно, глубокая комичность которых как раз и знаменует собой истину письма; он может лишь вечно подражать тому, что написано прежде и само писалось на впервые; в его власти только смешивать разные виды письма, сталкивать их друг с другом, не опираясь всецело ни на один из них; если бы он захотел выразить себя, ему все равно следовало бы знать, что внутренняя «сущность», которую он намерен «передать», есть не что иное, как уже готовый словарь, где слова объясняются лишь с помощью других слов, и так до бесконечности. Так случилось, если взять яркий пример, с юным Томасом де Квинси: он, по словам Бодлера, настолько преуспел в изучении греческого, что, желая передать на этом мертвом языке сугубо современные мысли и образы, «создал себе и в любой момент держал наготове собственный словарь, намного больше и сложнее тех, основой которых служит заурядное прилежание в чисто литературных переводах» («Искусственный рай»). Скриптор, пришедший на смену Автору, несет в себе не страсти, настроения, чувства или впечатления, а только такой необъятный словарь, из которого он черпает свое письмо, не знающее остановки; жизнь лишь подражает книге, а книг сама соткана из знаков, сама подражает чему-то уже забытому, и так до бесконечности.
Коль скоро Автор устранен, то совершенно напрасным становятся и всякие притязания на «расшифровку» текста. Присвоить тексту Автора – это значит как бы застопорить текст, наделить его окончательным значением, замкнуть письмо. Такой взгляд вполне устраивает критику, которая считает тогда своей важнейшей задачей обнаружить в произведении Автора (или же различные его ипостаси, такие как общество, история, душа, свобода): если Автор найден, значит, текст «объяснен», критик одержал победу. Не удивительно поэтому, что царствование Автора исторически было и царствованием Критика, а также и то, что ныне одновременно с Автором оказалась поколебленной и критика (хотя бы даже и новая). Действительно, в многомерном письме все приходится распутывать, но расшифровывать нечего; структуру можно прослеживать, «протягивать» (как подтягивают спущенную петлю на чулке) во всех ее повторах и на всех ее уровнях, однако невозможно достичь дна; пространство письма дано нам для пробега, а не для прорыва; письмо постоянно порождает смысл, но он тут же и улетучивается, происходит систематическое высвобождение смысла. Тем самым литература (отныне правильнее было бы говорить письмо), отказываясь признавать за текстом (и за всем миром как текстом) какую-либо «тайну», то есть окончательный смысл, открывает свободу контртеологической, революционной по сути своей деятельности, так как не останавливать течение смысла – значит в конечном счете отвергнуть самого бога и все его ипостаси – рациональный порядок, науку, закон.
Вернемся к бальзаковской фразе. Ее не говорит никто (то есть никакое «лицо»): если у нее есть источник и голос, то не в письме, а в чтении. Нам поможет это понять одна весьма точная аналогия. В исследованиях последнего времени (Ж.-П. Вернан) демонстрируется основополагающая двусмысленность греческой трагедии: текст ее соткан из двузначных слов, которые каждое из действующих лиц понимает односторонне (в этом постоянном недоразумении и заключается «трагическое»); однако есть и некто, слышащий каждое слово во всей его двойственности, слышащий как бы даже глухоту действующих лиц, что говорят перед ним; этот «некто» – читатель (или, в данном случае, слушатель). Так обнаруживается целостная сущность письма: текст сложен из множества разных видов письма, происходящих из различных культур и вступающих друг с другом в отношения диалога, пародии, спора, однако вся эта множественность фокусируется в определенной точке, которой является не автор, как утверждали до сих пор, а читатель. Читатель – это то пространство, где запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо; текст обретает единство не в происхождении своем, а в предназначении, только предназначение это не личный адрес; читатель-это человек без истории, без биографии, без психологии, он всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст. Смехотворны поэтому попытки осуждать новейшее письмо во имя некоего гуманизма, лицемерно выставляющего себя поборником прав читателя.
Критике классического толка никогда не было дела до читателя; для нее в литературе существует лишь тот, кто пишет. Теперь нас более не обманут такого рода антифрасисы, посредством которых почтенное общество с благородным негодованием вступается за того, кого на деле оно оттесняет, игнорирует, подавляет и уничтожает. Теперь мы знаем: чтобы обеспечить письму будущность, нужно опрокинуть миф о нем – рождение читателя приходится оплачивать смертью Автора.
В кн.: Барт Р. Избранные работы. Семиотика.
Поэтика. М., 1989. С. 384–391.
(Перевод Г.К. Косикова)
Из многих значений глагола filer здесь обыгрывается по крайней мере три: «следить» (ср. в русском языке филёр); «тянуть», «подтягивать» (о петле на чулке); «плести», «вплетать» (например, в тексте: une metaphore filee – сквозная метафора). – Прим. перев.
В подлиннике обыгрывается второе значение глагола renverser «выворачивать наизнанку». – Прим. ред.
Неужели книга уходит из нашей жизни? Забитые прилавки в книжных магазинах не должны, упорствуют интеллектуалы, вводить в заблуждение: привычная стопка переплетенных бумажных листов в обложке, известная нам под именем "книги", -сегодня уже совсем не то, чем была еще совсем недавно.
Книга сдает культурные позиции. Дело даже не в том, что ее вытесняют другие носители текстов (скажем, компьютер) или другие типы информации (скажем, визуальная). Само чтение, говорят, становится другим - просто уже в силу того, что все эти носители текстов и информации присутствуют в культуре. И что это значит для культуры? А что - для читающего (или уже не читающего?) человека?
Правда ли, что происходят необратимые перемены? И насколько они катастрофичны? А может быть, напротив, они открывают перед нами новые возможности?
В 1968 году Ролан Барт связал всемогущество читателя со смертью автора. Свергнутый с пьедестала языковой деятельностью, вернее, "множеством разных видов письма, происходящих из различных культур и вступающих друг с другом в отношения диалога, пародии, спора", автор уступал власть читателю - тому, кто сводил "воедино все те штрихи, что образуют письменность". Чтение становилось пространством, где множественный, подвижный, неустойчивый смысл "сводится воедино", где текст обретает значение.
Смерть читателя, новый облик книги
За актом о рождении читателя последовали выводы, напоминавшие скорее свидетельство о его смерти.Во-первых, речь шла об изменениях читательских практик. С одной стороны, статистика опросов убедительно говорила если не о сокращении процента читателей в мире, то по крайней мере об уменьшении доли "серьезных читателей", особенно среди подростков. С другой, анализ издательской политики укрепил общую уверенность в том, что чтение переживает "кризис".
Смерть читателя и исчезновение чтения мыслятся как неизбежное следствие "экранной цивилизации". Возник экран нового типа: носитель текстов. Раньше книга, письменный текст, чтение противостояли экрану и изображению. Теперь у письменной культуры появился новый носитель, а у книги - новая форма.
Отсюда парадоксальная связь между, с одной стороны, повсеместным присутствием письменности в обществе, а с другой - навязчивым мотивом исчезновения книги и смерти читателя.
В IV веке привычную греческим и римским читателям форму книги - свиток - вытеснила новая: кодекс, состоящий из сложенных, сфальцованных и переплетенных листов. С новой формой книги вошли в обиход прежде невозможные жесты: писать во время чтения, пролистывать произведение, отмечать какой-то его фрагмент. Изменились способы обращения с текстом. Изобретение страницы, точные ссылки, нумерация страниц, указатели, новое соотношение произведения с объектомносителем сделали возможными неведомые прежде связи между читателем и книгами.
Ближайшие десятилетия, скорее всего, станут временем сосуществования - не обязательно мирного - обеих форм книги и трех способов записи и распространения текстов: рукописи, печатного издания и электронного текста.
Стоит задаться вопросом о новой форме научных дискурсов и специфических модальностях их чтения, допускаемых электронной книгой. В ней складывается новое соотношение изложения и источников, способов аргументации и критериев доказательства. Писать или читать новую разновидность книги - значит изменить приемы обоснования научного дискурса, история и действенность которого недавно стали предметом внимания ученых: цитаты, постраничные сноски. Каждый из этих способов доказать научную состоятельность исследования претерпевает глубокие изменения: автор теперь может строить аргументацию, руководствуясь не только линейной, дедуктивной логикой, но и открытой, дробной, реляционистской. Читателю становятся доступны документы (архивы, изображения, звуковые записи), служащие предметом или инструментом исследования. В этом смысле революция в модальностях производства и распространения текстов - важнейший эпистемологический сдвиг.
С тех пор как кодекс стал основной формой книги, авторы подчиняли логике его материальной формы структуру своих произведений - например, разбивая единый дискурс, содержащийся в одном сочинении, на отдельные книги, части или главы, соответствовавшие в свое время текстовому материалу свитка. Так и возможности (и ограничения) электронной книги заставляют иначе организовывать материал, поданный в печатной книге как линейная последовательность текстовых отрезков. Электронная книга, трансформируя отношения между изображениями, звуками и текстами, связанными нелинейно, посредством электронных соединений, делает возможным гипертекст и гиперчтение, а также допустимые связи между виртуально бесконечным количеством текстов, утративших четкие очертания. В этом безграничном мире текстов главную роль играет понятие ссылки - операции, сопрягающей разные текстовые единицы, выделенные в целях чтения.
Электронный текст ставит под вопрос само понятие "книги". В печатной культуре определенный тип объектов ассоциируется с определенным классом текстов и определенными способами обращения с ними. Поэтому порядок дискурсов здесь строится, исходя из материальной формы их носителей: письмо, газета, журнал, книга, архив... Иначе - в цифровом мире, где любые тексты, независимо от их природы, читаются с одного носителя (дисплея) и в одних и тех же формах (обычно выбранных читателем). Так создается "континуум", стирающий различия между жанрами или группами текстов: все они похожи друг на друга внешне и равно авторитетны. Отсюда - характерное беспокойство: утрачены прежние критерии, позволявшие различать и классифицировать дискурсы и выстраивать их иерархию.
Электронный текст: собственные характеристики и характер собственности
Отсюда - необходимость осмыслить категориальный аппарат и технические средства, позволяющие воспринимать и обозначать некоторые электронные тексты как "книги" - то есть текстовые единицы с собственной идентичностью. Такая реорганизация мира цифровой письменности - необходимая предпосылка для организации платного онлайн-доступа, с одной стороны, и защиты морального и материального авторского права, с другой.Системы безопасности, разработанные для защиты произведений (книг или баз данных) и ставшие более эффективными с появлением e-book, будут, видимо, развиваться и далее, фиксируя и придавая устойчивую форму текстам, опубликованным в электронном виде. Это может привести и к созданию в области электронных текстов нового порядка дискурсов, позволяющего, с одной стороны, отделить тексты, стихийно запущенные в Сеть, от приведенных в соответствие с научными критериями и издательскими требованиями, а с другой - четко обозначить статус и происхождение дискурсов и тем самым придать им бoльшую или мeньшую авторитетность в зависимости от модальности их "публикации".
 Переворот в мире цифровых технологий может произвести и возможность сделать передачу электронных текстов независимой от компьютера (ПК, ноутбука, e-book) благодаря созданию электронных чернил и "бумаги". Способ, разработанный в Массачусетском технологическом институте, позволяет превратить любой объект (в том числе и привычную книгу с листами и страницами) в носитель электронной книги или целой библиотеки - если только он снабжен микропроцессором и подключен к Интернету, а на его страницы можно наносить электронные чернила и выводить на одну и ту же поверхность разные тексты. Так электронный текст впервые оказался бы свободен от ограничений, налагаемых экраном - и была бы уничтожена связь, сложившаяся (к немалой выгоде для некоторых) между торговлей электронными устройствами и онлайновым книгоизданием.
Переворот в мире цифровых технологий может произвести и возможность сделать передачу электронных текстов независимой от компьютера (ПК, ноутбука, e-book) благодаря созданию электронных чернил и "бумаги". Способ, разработанный в Массачусетском технологическом институте, позволяет превратить любой объект (в том числе и привычную книгу с листами и страницами) в носитель электронной книги или целой библиотеки - если только он снабжен микропроцессором и подключен к Интернету, а на его страницы можно наносить электронные чернила и выводить на одну и ту же поверхность разные тексты. Так электронный текст впервые оказался бы свободен от ограничений, налагаемых экраном - и была бы уничтожена связь, сложившаяся (к немалой выгоде для некоторых) между торговлей электронными устройствами и онлайновым книгоизданием.
Может ли эта новая книга найти - или создать - своих читателей?
С одной стороны, многовековая история чтения свидетельствует: перемены в навыках и практиках часто совершаются куда медленнее технических революций и всегда в отрыве от них. Новые способы чтения не были непосредственно связаны с изобретением книгопечатания. Понятийный аппарат, используемый нами для описания мира текстов, сохранится и впредь, несмотря на новые формы книги. Напомним: после появлениякодекса и исчезновения свитка "книга" - понимаемая просто как часть дискурса - по объему содержавшегося в ней текстового материала часто соответствовала одному прежнему свитку.
С другой стороны, электронная революция, затронувшая вроде бы всех без исключения, может усугубить неравенство. Велика опасность возникновения новой "неграмотности", означающей уже не неумение читать и писать, а невозможность доступа к новым формам распространения письменных текстов - стоящим отнюдь не дешево. Электронная переписка автора с читателями, которые превращаются в соавторов книги, не имеющей конца, перетекающей в их комментарии и дополнения, позволяет установить связь, какая прежде, при ограничениях, присущих печатному изданию, была затруднена. Перспектива более диалогичных отношений между произведением и чтением соблазнительна. Но потенциальные читатели (и соавторы) электронных книг пока в меньшинстве. Революция почти не коснулась реальных читательских практик - они в основном по-прежнему связаны с печатными объектами и лишь частично - с возможностями цифровых технологий.
Различные революции письменной культуры, в прошлом разнесенные во времени, сейчас происходят одновременно. Появление электронного текста - это революция и в технике производства и воспроизводства текстов, и в сфере носителей письменности, и в области читательских практик. Можно выделить три ее характерные черты, трансформирующие наши связи с письменной культурой.
Во-первых, электронная репрезентация текста радикально меняет понятие контекста, а значит - сам процесс создания смысла. Физическое соседство разных текстов в одной книге или в одном периодическом издании уступает место подвижному их включению в логические конструкции, организующие базы данных и оцифрованные книжные коллекции. Во-вторых, она заставляет по-новому взглянуть на материальность произведений, уничтожая видимую связь между текстом и объектом, в котором он содержится, и передает читателю (а не автору или издателю) право компоновать и разбивать на части текстовые единицы, которые он желает прочесть, и даже выбирать их внешний вид. Это переворот в системе восприятия текстов и обращения с ними. В-третьих, современный читатель, читая с экрана, находится в позиции читателя античного, но с одним отличием: он читает свиток, развертывающийся, как правило, вертикально и снабженный всеми ориентирами, присущими книге-кодексу начиная с первых столетий христианской эры, - нумерацией страниц, указателями, содержанием и т.д. Это совмещение обеих логик, определявших навыки обращения с прежними носителями письменности (свитком, volumen, и кодексом, codex), обусловливает новое отношение к тексту.
Благодаря этим переменам электронный текст может сделать реальностью все давние, но не осуществимые прежде мечты о тотальном, универсальном знании. Он обещает сделать общедоступными все когда-либо написанные тексты. Он требует сотрудничества читателя, который, отправляясь в нерукотворную электронную библиотеку, может отныне писать в самой книге. Он очерчивает идеальное публичное пространство, где, по Канту, может и должно свободно осуществляться публичное применение разума.
Свободный и прямой удаленный доступ, обеспечиваемый компьютерными сетями, может вести к утрате любых общих референций, к изоляции, к обострению всех видов сепаратизма - или, наоборот, обеспечить гегемонию единой для всех культурной модели, уничтожив, ко всеобщему ущербу, всякое разнообразие. Но, кроме того, он может стать основой для новой модальности накопления и передачи знаний. Это будет уже коллективное построение знания через обмен сведениями, экспертизами и мудрыми мыслями. Новая, энциклопедическая навигация требует, чтобы каждый поднялся на борт ее кораблей, претворяя в реальность стремление к универсальному охвату, каким всегда сопровождались попытки включить все множество вещей и слов в порядок дискурсов.
Но для этого электронной книге надо отмежеваться от современных практик, когда в Интернет часто выкладываются сырые тексты, задуманные вне связи с новой формой их передачи, без издательской правки. Ратуя за новые технологии, помогающие публиковать результаты научных исследований, мы должны помнить о расслабляющей легкости электронной коммуникации и стремиться облекать и научные дискурсы, и общение между людьми в более строгие и более контролируемые формы.
Техники воспроизведения текстов или изображений, говорил Вальтер Беньямин, сами по себе не хороши и не плохи. Об их историческом значении можно спорить, но одно и то же техническое средство можно использовать по-разному.
Библиотеки в цифровую эпоху
Появление нового носителя письменных текстов не означает ни конца книги, ни смерти читателя. Быть может, даже наоборот.Если прекратится циркуляция произведений, которые они в себе заключали, и тем более если те сохранятся лишь в электронном виде, мы можем утратить понимание культуры текстов, в рамках которой они отождествлялись с объектами-носителями. Библиотека будущего должна стать местом, где по-прежнему будет происходить изучение таких текстов и приобщение к письменной культуре в тех ее формах, какие отличали и, в большинстве, отличают ее сегодня.
Библиотеки должны стать инструментом, который поможет новым читателям найти свой путь в цифровом мире, стирающем различия между жанрами и способами использования текстов и уравнивающем их по авторитетности. Читателю грозит опасность потеряться среди текстовых архипелагов, блуждая по цифровой сфере без руля и без ветрил. Библиотека может стать для него и тем и другими.
Задачей библиотек завтрашнего дня могло бы стать и воссоздание связанных с книгой типов общения, которых мы сегодня лишились. В мире, где чтение стало отождествляться с личным, интимным отношением к книге, библиотеки (как ни парадоксально: ведь именно здесь в Средние века от читателей впервые потребовали соблюдать тишину!) должны предоставлять как можно больше поводов и форм, позволяющих высказывать свое мнение по поводу письменного наследия, интеллектуального и эстетического творчества. Здесь они могут способствовать созданию публичного пространства, совпадающего по масштабам со всем человечеством.
Завтра это воздействие станет таким, каким мы сумеем сделать его сегодня. Не лучше и не хуже. И ответственность за это ложится на нас всех.
Роже Шартье (р. 1945) - французский историк, профессор Высшей школы исследований по общественным наукам (Париж, Франция) и Университета Пенсильвании (Филадельфия, США). Специалист по истории книги, чтения и книгоиздания. Автор фундаментальной "Истории французского книгоиздания" (т. 1-4, 1982-1986). На русском языке вышли его книги: "Культурные истоки Французской революции" (2001) и "Письменная культура и общество" (2006). Публикуемая статья - глава из последней книги. Печатается в сокращении.
Хороших новостей приходится ждать, плохие приходят сами. За последние четверть века в нашу культурную жизнь пришло немало бед, и одна из них – катастрофическое снижение числа читателей художественной литературы. Иосиф Бродский как-то сказал: «Есть преступления более тяжкие, чем сжигать книги. Одно из них – не читать их». А ведь книга – учитель учителей!
Почему читательское «поле», как шагреневая кожа, стремительно сокращается? Чем же вызван «массовый падёж» читателей? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Одни россияне больше времени стали тратить на то, чтобы заработать копейку и бороться за физическое выживание, так что им уже не до «высоких материй». Другие, вместо чтения, кинулись потреблять развлечения, которые предоставили им новые технологии. Третьих не устраивает низкое качество поэзии и прозы современных литераторов. А основная часть молодого поколения не получила должного воспитания и поэтому не усвоила простую истину: чтение художественной литературы является источником духовного, нравственного и интеллектуального обогащения.
Сделать из себя хорошего читателя не так-то просто. Но этот труд потом на протяжении всей жизни будет приносить много радости. По мнению Владимира Набокова, «хороший читатель – это тот, у которого развиты воображение, память, словарный запас и который наделён художественным чутьём». Без талантливого читателя художественная литература мертва. Об этом говорили многие писатели, например, С.Я. Маршак: «Читатель – лицо незаменимое. Без него не только наши книги, но и все произведения Гомера, Данте, Шекспира, Гёте, Пушкина – всего лишь немая и мёртвая груда бумаги». И А.П. Чехов признавался: «Я знаю, трепетно люблю и ношу в себе своего читателя». Талантливый читатель, как и талантливый слушатель, — это награда, удача для любого творца, автора, это их союзник, единомышленник, сопереживатель.
Многие читатели ищут в современной художественной литературе не только эстетическое удовольствие, но и достойную идею, однако не находят её. В статье «Сапоги выше Пушкина» Сергей Морозов совершенно справедливо отмечает: «Большинство современных книг вообще сторонится всякой идейности, не содержит ничего, кроме словесной жижи».
Выступая на Всероссийской научно-практической конференции «Современный читатель: эволюция или мутация», Алексей Варламов сказал: «Общество можно разделить на три группы: тех, кто читал, читает и будет читать; тех, кто не читал и не будет и середину, за которую и нужно бороться». И бороться должны все: и писатели, и школа, и библиотека, и родители.… Но особая роль в этом, конечно же, принадлежит литературным журналам. Многие главные редакторы этих журналов, чтобы не уронить свою значимость в глазах общества, в один голос заявляют, что читателей у них множество, а мизерные тиражи литературных журналов объясняются тем, что подавляющее число читателей — это те, кто в Интернете знакомится с текстами, опубликованными в их изданиях. Мол, у читателя, как правило, только один выход: в Интернет.
В последние четверть века в нашей стране идёт процесс агрессивного ниспровержения чтения с пьедестала социальных ценностей. С этой же целью с 2000 года в России закрыто около 13 тысяч библиотек. Правительство уверяет нас, что на их содержание нет денег. Однако деньги находятся для того, чтобы платить зарплату Игорю Сечину и некоторым другим «менеджерам» по 1-4 миллиона рублей в день. Нашли 50 миллионов долларов США и Никите Михалкову на съёмки фильма «Предстояние», который провалился в прокате, и т. д. Ольга Еланцева в своей статье «Чтение в современной России» приводит соответствующую таблицу и констатирует: «Приведённые выше цифры красноречиво характеризуют ситуацию с чтением в России как стремительно ухудшающуюся… Абсолютное большинство российских семей сегодня не имеют домашних библиотек. Более половины россиян сегодня не покупают книг… Сегодня в России почти половина изданий имеют тираж 500 экземпляров. И это – для нашего огромного государства!»
Исследователи и аналитики пришли к заключению, что современные любители литературы в 90% случаев – люди, которые увлекались чтением ещё до перестройки. И только 10% молодого населения страны посвящает себя чтению. А что будет, когда наше поколение уйдёт в мир иной? Ответ очевиден. Уже сегодня можно увидеть рядом с мусорными баками собрания сочинений наших и зарубежных классиков. Дикость! Впрочем, больное общество возводит болезни в ранг достоинств. Владимир Бирашевич горько шутит: «Читающих всё меньше. Пора ввести звание заслуженный читатель и обращаться к нему не иначе как Ваше читательство».
По поводу «вымирания читателя» бьют тревогу и в Европе. Француженка Роже Шартье в статье «Книга уходит из нашей жизни? Читатели и чтение в эпоху электронных текстов» жалуется: «Смерть читателя и исчезновение чтения мыслятся как неизбежное следствие «экранной цивилизации». Возник экран нового типа: носитель текстов. Раньше книга, письменный текст, чтение противостояли экрану и изображению. Теперь у письменной культуры появился новый носитель, а у книги новая форма». Видимо, чтобы подбодрить «хронического» читателя, Роже Шартье эпиграфом к своей статье выбрала слова Хорхе Луиса Борхеса: «Говорят, что книга исчезает; я думаю, что это невозможно».
Эта же тема затрагивается и в статье Лидии Сычёвой «Слова и цифры». Безусловно, информация – одна из форм жизни. Казалось бы, Интернет и прочие цифровые технологии – прогресс! Но там, где прошла машина прогресса, остаётся колея сомнительных истин. Темп жизни увеличивается в разы, и, видимо, скоро начнётся экранизация афоризмов.
Если идёт «вымирание» читателя, то возникает закономерный вопрос: чем же конкретно «болен» читательский корпус? Мне представляется, что болезней тут множество, но «пациента» можно вылечить. За последние четверть века государство сделало всё возможное, чтобы читательский художественный вкус деформировался, — и это, к великому сожалению, произошло.
Растёт число тех читателей, кто не хочет «встречаться» с классиками, а «впитывает» пустопорожние книжки, чтобы, как после употребления наркотика, забыться, отвлечься и «расслабиться». Они становятся рабами подобного чтива, но не осознают этого. Рабство приобрело такие формы, что видны лишь очертания. Этим и объясняется, что лидером продаж в последние годы являются книги Д. Донцовой. Бывают, правда, всплески читательского интереса к классике после нашумевших экранизаций («Идиот», «Бесы», «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита»), но это всего лишь кратковременные импульсы.
Всё бы ничего, но на этом фоне рождается новая проблема: молодые, да и «зрелые» писатели тоже хотят получить за свой труд больше денег и известности. И сворачивают на эту «тропу», не желая быть похожими на героя такого анекдота. Встречаются два писателя. Первый, восторженно: «Ты знаешь, я недавно купил твою книгу, так талантливо, такой стиль, такой сюжет, поздравляю!» Второй, грустно: «А-а-а, так это ты купил…».
А тут ещё и некоторые литературные критики «подливают масла в огонь». В своей статье «Массовый современный российский читатель» Дмитрий Морозов утверждает, что сегодня значительная часть читателей – это люди с избытком свободного времени, то есть «школьники, домохозяйки и неудачливый офисный планктон». И призывает писателей «не спорить с реалиями сегодняшнего дня», а, мол, «нужно цеплять их на крючок действия, заставлять проживать яркие эпизоды интересных событий, не имеющих ничего общего с их серой действительностью». Подобные советы дают определённый эффект: в продаже мы видим всё больше и больше книг, которые справедливо называют «макулатурой».
Но беда в том, что, читая эти книжонки, человек не только не поднимается на новую ступень своего интеллектуального и духовного развития, а спускается на ступень ниже. И про таких читателей рождаются анекдоты, а устное народное творчество, как известно, очень точно и своевременно подмечает многие «нюансы» нашей жизни: «Ты «Войну и мир» за сколько бы прочитал?» — «Ну, баксов за сто…» И смешно и грустно, не правда ли? Или такой анекдот. Метро, конечная станция, ночь. Полицейский обнаруживает спящего, уронившего книгу мужика. Он поднимает книгу, смотрит на обложку и читает «Лев Ландау. Теория поля». «Эй, агроном, просыпайся, приехали!»
Многие редакторы и литературные критики, характеризуя отношение читателей к современной русской литературе, отмечают, что «её разлюбили», мол, в споре физиков и лириков «победили бухгалтеры».
«Кто виноват?» в незавидных читательских и писательских делах мы вроде бы начинаем осознавать. И перед нами вплотную встаёт уже другой заезженный русский вопрос «Что делать?»
Сегодня наибольшей популярностью пользуется художественная литература, не требующая особых интеллектуальных способностей. Но нам надо переломить ситуацию и сделать так, чтобы модным было чтение произведений, которые заставляют думать и осмысливать действительность. И без помощи государства, в руках которого почти все СМИ и ежегодный бюджет, эту проблему решить невозможно.